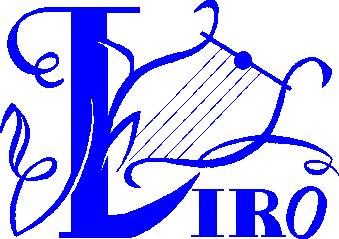 Liro-2004
Liro-2004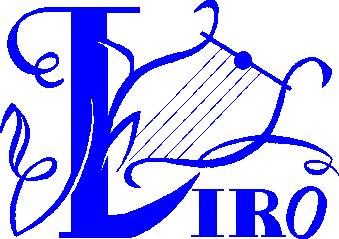 Liro-2004
Liro-20041. Originala prozo.En ĉiu originala branĉo oni rajtas partopreni per ne pli ol tri verkoj. Sendu kvar tajpitajn, komputile kompostitajn aŭ klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursaĵo al la sekretario de Liro, Halina Gorecka (RU-236039 Kaliningrad, p.k. 1248, Ruslando). La konkursaĵoj devos atingi la organizantojn antaŭ 15 okt 2004.
2. Originala poezio.
3. Traduka poezio el la rusa lingvo: Neznakomka de Aleksandr Blok.
4. Traduka prozo el la rusa lingvo: Birjuk de Ivan Turgenev.
5. Traduka prozo el la angla lingvo: The Devil in the Belfry de Edgar Allan Poe.
Subskribu vian konkursaĵon per pseŭdonimo kaj aldonu slipon kun indiko de la pseŭdonimo, aŭtenta nomo kaj poŝta adreso. Oni ne rajtas sendi verkojn, kiuj estis publikigitaj aŭ premiitaj en aliaj konkursoj.
La originalajn tekstojn de la tradukendaj verkoj petu ĉe la sekretario kontraŭ afrankita koverto (por Ruslando) aŭ internacia respondkupono. La elektronikaj tekstoj estas ĉi sube.
La laŭreatoj ricevos diplomojn kaj libropremiojn. La rezulto estos anoncita je la Zamenhofa Tago 2004. La organizantoj ĝis 1 jan 2007 havos la rajton de la unua publikigo de la ricevitaj konkursaĵoj en La Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike. La kopirajto restas ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage en okazo de eldono de antologio de Liro.
Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.
И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.
Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.
И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной
Как я, смирен и оглушен.
А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
ЭIn vino veritas!Э кричат.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.
И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.
В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.
(24 апреля 1906, Озерки)
— Кто это? — спросил звучный голос.
— А ты кто сам?
— Я здешний лесник.
Я назвал себя.
— А, знаю! Вы домой едете?
— Домой. Да видишь, какая гроза…
— Да, гроза, — отвечал голос.
Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.
— Не скоро пройдет, — продолжал лесник.
— Что делать!
— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу, — отрывисто проговорил он.
— Сделай одолжение.
— Извольте сидеть.
Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, “как в море челнок”, и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился: “Вот мы и дома, барин”, — промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрыпела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. “Сичас, сичас!” — раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрыпел, и девочка лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.
— Посвети барину, — сказал он ей, — а я ваши дрожки под навес поставлю.
Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.
Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.
— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.
— Одна, — произнесла она едва внятно.
— Ты лесникова дочь?
— Лесникова, — прошептала она.
Дверь заскрыпела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.
— Чай, не привыкли к лучине? — проговорил он и тряхнул кудрями.
Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.
Я поблагодарил его и спросил его имя.
— Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу Бирюк.
— А, ты Бирюк?
Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: “Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силен, дескать, и ловок как бес… И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается”.
Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.
— Так ты Бирюк, — повторил я, — я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь.
— Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо, — даром господский хлеб есть не приходится.
Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.
— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.
— Нет, — отвечая он и сильно махнул топором.
— Умерла, знать?
— Нет… да… умерла, — прибавил он и отвернулся.
Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.
— С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.
— Вы, чай, барин, — начал он, — нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба…
— Я не голоден.
— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету… Пойду посмотрю, что ваша лошадь.
Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Улитой, — проговорила она, еще более понурив свое печальное личико.
Лесник вошел и сел на лавку.
— Гроза проходит, — заметил он после небольшого молчанья, — коли прикажете, я вас из лесу провожу.
Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.
— Это зачем? — спросил я.
— А в лесу шалят… У Кобыльего Верху дерево рубят, — прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.
— Будто отсюда слышно?
— Со двора слышно.
Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. “Во… вот, — проговорил он вдруг и протянул руку, — вишь какую ночку выбрал”. Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. “А этак я, пожалуй, — прибавил он вслух, — и прозеваю его”. — “Я с тобой пойду… хочешь?” — “Ладно, — отвечал он и попятил лошадь назад, — мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте”.
Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того чтобы прислушиваться к стуку топора. “Вишь, — бормотал он сквозь зубы, — слышите? слышите?” — “Да где?” Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновенье — мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался.
— Повалил… — пробормотал Бирюк.
Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались наконец из оврага. ”Подождите здесь”, — шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрыпели, лошадь фыркала… “Куда? стой!” — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи… Началась борьба. “Вре-ешь, вре-ешь, — твердил, задыхаясь, Бирюк, — не уйдешь…” Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.
— Отпусти его, — шепнул я на ухо Бирюку, — я заплачу за дерево.
Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой; правой он держал вора за пояс: “Ну, поворачивайся, ворона!” — промолвил он сурово. “Топорик-то вон возьмите”, — пробормотал мужик. “Зачем ему пропадать!” — сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади… Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.
— Эк его, какой полил, — заметил лесник, — переждать придется. Не хотите ли прилечь?
— Спасибо.
— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер, — продолжал он, указывая на мужика — да вишь, засов…
— Оставь его тут, не трогай, — перебил я Бирюка.
Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренне дал себе слово во что бы то ни стало освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены… Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу… дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.
— Фома Кузьмич, — заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым, — а, Фома Кузьмич.
— Чего тебе?
— Отпусти.
Бирюк не отвечал.
— Отпусти… с голодухи… отпусти.
— Знаю я вас, — угрюмо возразил лесник, — ваша вся слобода такая — вор на воре.
— Отпусти, — твердил мужик, — приказчик… разорены, во как… отпусти!
— Разорены!.. Воровать никому не след.
— Отпусти, Фома Кузьмич… не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.
Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.
— Отпусти, — повторил он с унылым отчаяньем, — отпусти, ей-Богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-Богу. Ей-Богу, с голодухи… детки, пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.
— А ты все-таки воровать не ходи.
— Лошаденку, — продолжал мужик, — лошаденку-то, хоть ее-то… один живот и есть… отпусти!
— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.
— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того… отпусти!
— Знаю я вас!
— Да отпусти!
— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?
Бедняк потупился… Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.
Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. “Ну на, ешь, на, подавись, на, — начал он, прищурив глаза и опустив углы губ, — на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей…”
Лесник обернулся.
— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!
— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник. — С ума сошел, что ли?
— Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!
— Ах ты… да я тебя!..
— А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай все: жена, дети — околевай все… А до тебя, погоди, доберемся!
Бирюк приподнялся.
— Бей, бей, — подхватил мужик свирепым голосом, — бей, на, на, бей… (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!
— Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза.
— Полно, полно, Фома, — закричал я, — оставь его… Бог с ним.
— Не стану я молчать, — продолжал несчастный. — Все едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету… Да постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!
Бирюк схватил его за плечо… Я бросился на помощь мужику…
— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник.
Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.
— Убирайся к черту с своей лошадью, — закричал он ему вслед, — да смотри, в другой раз у меня!..
Он вернулся в избу и стал копаться в углу.
— Ну, Бирюк, — промолвил я наконец, — удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.
— Э, полноте, барин, — перебил он меня с досадой, — не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, — прибавил он, — знать, дождика-то вам не переждать…
На дворе застучали колеса мужицкой телеги.
— Вишь, поплелся! — пробормотал он, — да я его!..
Через полчаса он простился со мной на опушке леса.
* Бирюком называется в Орловской губернии человек, одинокий и угрюмый. (Прим. И.С.Тургенева.)
* “Верхом” называется в Орловской губернии овраг. (Прим. И.С.Тургенева.)
Everybody knows, in a general way, that the finest place in the world is — or, alas, was — the Dutch borough of Vondervotteimittiss. Yet as it lies some distance from any of the main roads, being in a somewhat out-of-the-way situation, there are perhaps very few of my readers who have ever paid it a visit. For the benefit of those who have not, therefore, it will be only proper that I should enter into some account of it. And this is indeed the more necessary, as with the hope of enlisting public sympathy in behalf of the inhabitants, I design here to give a history of the calamitous events which have so lately occurred within its limits. No one who knows me will doubt that the duty thus self-imposed will be executed to the best of my ability, with all that rigid impartiality, all that cautious examination into facts, and diligent collation of authorities, which should ever distinguish him who aspires to the title of historian.
By the united aid of medals, manuscripts, and inscriptions, I am enabled to say, positively, that the borough of Vondervotteimittiss has existed, from its origin, in precisely the same condition which it at present preserves. Of the date of this origin, however, I grieve that I can only speak with that species of indefinite definiteness which mathematicians are, at times, forced to put up with in certain algebraic formulae. The date, I may thus say, in regard to the remoteness of its antiquity, cannot be less than any assignable quantity whatsoever.
Touching the derivation of the name Vondervotteimittiss, I confess myself, with sorrow, equally at fault. Among a multitude of opinions upon this delicate point- some acute, some learned, some sufficiently the reverse — I am able to select nothing which ought to be considered satisfactory. Perhaps the idea of Grogswigg- nearly coincident with that of Kroutaplenttey — is to be cautiously preferred. — It runs: — Vondervotteimittis — Vonder, lege Donder — Votteimittis, quasi und Bleitziz- Bleitziz obsol: — pro Blitzen. This derivative, to say the truth, is still countenanced by some traces of the electric fluid evident on the summit of the steeple of the House of the Town-Council. I do not choose, however, to commit myself on a theme of such importance, and must refer the reader desirous of information to the “Oratiunculae de Rebus Praeter-Veteris,” of Dundergutz. See, also, Blunderbuzzard “De Derivationibus,” pp. 27 to 5010, Folio, Gothic edit., Red and Black character, Catch-word and No Cypher; wherein consult, also, marginal notes in the autograph of Stuffundpuff, with the Sub-Commentaries of Gruntundguzzell.
Notwithstanding the obscurity which thus envelops the date of the foundation of Vondervotteimittis, and the derivation of its name, there can be no doubt, as I said before, that it has always existed as we find it at this epoch. The oldest man in the borough can remember not the slightest difference in the appearance of any portion of it; and, indeed, the very suggestion of such a possibility is considered an insult. The site of the village is in a perfectly circular valley, about a quarter of a mile in circumference, and entirely surrounded by gentle hills, over whose summit the people have never yet ventured to pass. For this they assign the very good reason that they do not believe there is anything at all on the other side.
Round the skirts of the valley (which is quite level, and paved throughout with flat tiles), extends a continuous row of sixty little houses. These, having their backs on the hills, must look, of course, to the centre of the plain, which is just sixty yards from the front door of each dwelling. Every house has a small garden before it, with a circular path, a sun-dial, and twenty-four cabbages. The buildings themselves are so precisely alike, that one can in no manner be distinguished from the other. Owing to the vast antiquity, the style of architecture is somewhat odd, but it is not for that reason the less strikingly picturesque. They are fashioned of hard-burned little bricks, red, with black ends, so that the walls look like a chess-board upon a great scale. The gables are turned to the front, and there are cornices, as big as all the rest of the house, over the eaves and over the main doors. The windows are narrow and deep, with very tiny panes and a great deal of sash. On the roof is a vast quantity of tiles with long curly ears. The woodwork, throughout, is of a dark hue and there is much carving about it, with but a trifling variety of pattern for, time out of mind, the carvers of Vondervotteimittiss have never been able to carve more than two objects — a time-piece and a cabbage. But these they do exceedingly well, and intersperse them, with singular ingenuity, wherever they find room for the chisel.
The dwellings are as much alike inside as out, and the furniture is all upon one plan. The floors are of square tiles, the chairs and tables of black-looking wood with thin crooked legs and puppy feet. The mantelpieces are wide and high, and have not only time-pieces and cabbages sculptured over the front, but a real time-piece, which makes a prodigious ticking, on the top in the middle, with a flower-pot containing a cabbage standing on each extremity by way of outrider. Between each cabbage and the time-piece, again, is a little China man having a large stomach with a great round hole in it, through which is seen the dial-plate of a watch.
The fireplaces are large and deep, with fierce crooked-looking fire-dogs. There is constantly a rousing fire, and a huge pot over it, full of sauer-kraut and pork, to which the good woman of the house is always busy in attending. She is a little fat old lady, with blue eyes and a red face, and wears a huge cap like a sugar-loaf, ornamented with purple and yellow ribbons. Her dress is of orange-colored linsey-woolsey, made very full behind and very short in the waist — and indeed very short in other respects, not reaching below the middle of her leg. This is somewhat thick, and so are her ankles, but she has a fine pair of green stockings to cover them. Her shoes — of pink leather — are fastened each with a bunch of yellow ribbons puckered up in the shape of a cabbage. In her left hand she has a little heavy Dutch watch; in her right she wields a ladle for the sauerkraut and pork. By her side there stands a fat tabby cat, with a gilt toy-repeater tied to its tail, which “the boys” have there fastened by way of a quiz.
The boys themselves are, all three of them, in the garden attending the pig. They are each two feet in height. They have three-cornered cocked hats, purple waistcoats reaching down to their thighs, buckskin knee-breeches, red stockings, heavy shoes with big silver buckles, long surtout coats with large buttons of mother-of-pearl. Each, too, has a pipe in his mouth, and a little dumpy watch in his right hand. He takes a puff and a look, and then a look and a puff. The pig- which is corpulent and lazy — is occupied now in picking up the stray leaves that fall from the cabbages, and now in giving a kick behind at the gilt repeater, which the urchins have also tied to his tail in order to make him look as handsome as the cat.
Right at the front door, in a high-backed leather-bottomed armed chair, with crooked legs and puppy feet like the tables, is seated the old man of the house himself. He is an exceedingly puffy little old gentleman, with big circular eyes and a huge double chin. His dress resembles that of the boys — and I need say nothing farther about it. All the difference is, that his pipe is somewhat bigger than theirs and he can make a greater smoke. Like them, he has a watch, but he carries his watch in his pocket. To say the truth, he has something of more importance than a watch to attend to — and what that is, I shall presently explain. He sits with his right leg upon his left knee, wears a grave countenance, and always keeps one of his eyes, at least, resolutely bent upon a certain remarkable object in the centre of the plain.
This object is situated in the steeple of the House of the Town Council. The Town Council are all very little, round, oily, intelligent men, with big saucer eyes and fat double chins, and have their coats much longer and their shoe-buckles much bigger than the ordinary inhabitants of Vondervotteimittiss. Since my sojourn in the borough, they have had several special meetings, and have adopted these three important resolutions:
“That it is wrong to alter the good old course of things:”
“That there is nothing tolerable out of Vondervotteimittiss:” and-
“That we will stick by our clocks and our cabbages.”
Above the session-room of the Council is the steeple, and in the steeple is the belfry, where exists, and has existed time out of mind, the pride and wonder of the village — the great clock of the borough of Vondervotteimittiss. And this is the object to which the eyes of the old gentlemen are turned who sit in the leather-bottomed arm-chairs.
The great clock has seven faces — one in each of the seven sides of the steeple — so that it can be readily seen from all quarters. Its faces are large and white, and its hands heavy and black. There is a belfry-man whose sole duty is to attend to it; but this duty is the most perfect of sinecures — for the clock of Vondervotteimittis was never yet known to have anything the matter with it. Until lately, the bare supposition of such a thing was considered heretical. From the remotest period of antiquity to which the archives have reference, the hours have been regularly struck by the big bell. And, indeed the case was just the same with all the other clocks and watches in the borough. Never was such a place for keeping the true time. When the large clapper thought proper to say “Twelve o'clock!” all its obedient followers opened their throats simultaneously, and responded like a very echo. In short, the good burghers were fond of their sauer-kraut, but then they were proud of their clocks.
All people who hold sinecure offices are held in more or less respect, and as the belfry — man of Vondervotteimittiss has the most perfect of sinecures, he is the most perfectly respected of any man in the world. He is the chief dignitary of the borough, and the very pigs look up to him with a sentiment of reverence. His coat-tail is very far longer — his pipe, his shoe — buckles, his eyes, and his stomach, very far bigger — than those of any other old gentleman in the village; and as to his chin, it is not only double, but triple.
I have thus painted the happy estate of Vondervotteimittiss: alas, that so fair a picture should ever experience a reverse!
There has been long a saying among the wisest inhabitants, that “no good can come from over the hills”; and it really seemed that the words had in them something of the spirit of prophecy. It wanted five minutes of noon, on the day before yesterday, when there appeared a very odd-looking object on the summit of the ridge of the eastward. Such an occurrence, of course, attracted universal attention, and every little old gentleman who sat in a leather-bottomed arm-chair turned one of his eyes with a stare of dismay upon the phenomenon, still keeping the other upon the clock in the steeple.
By the time that it wanted only three minutes to noon, the droll object in question was perceived to be a very diminutive foreign-looking young man. He descended the hills at a great rate, so that every body had soon a good look at him. He was really the most finicky little personage that had ever been seen in Vondervotteimittiss. His countenance was of a dark snuff-color, and he had a long hooked nose, pea eyes, a wide mouth, and an excellent set of teeth, which latter he seemed anxious of displaying, as he was grinning from ear to ear. What with mustachios and whiskers, there was none of the rest of his face to be seen. His head was uncovered, and his hair neatly done up in papillotes. His dress was a tight-fitting swallow-tailed black coat (from one of whose pockets dangled a vast length of white handkerchief), black kerseymere knee-breeches, black stockings, and stumpy-looking pumps, with huge bunches of black satin ribbon for bows. Under one arm he carried a huge chapeau-de-bras, and under the other a fiddle nearly five times as big as himself. In his left hand was a gold snuff-box, from which, as he capered down the hill, cutting all manner of fantastic steps, he took snuff incessantly with an air of the greatest possible self-satisfaction. God bless me! — here was a sight for the honest burghers of Vondervotteimittiss!
To speak plainly, the fellow had, in spite of his grinning, an audacious and sinister kind of face; and as he curvetted right into the village, the old stumpy appearance of his pumps excited no little suspicion; and many a burgher who beheld him that day would have given a trifle for a peep beneath the white cambric handkerchief which hung so obtrusively from the pocket of his swallow-tailed coat. But what mainly occasioned a righteous indignation was, that the scoundrelly popinjay, while he cut a fandango here, and a whirligig there, did not seem to have the remotest idea in the world of such a thing as keeping time in his steps.
The good people of the borough had scarcely a chance, however, to get their eyes thoroughly open, when, just as it wanted half a minute of noon, the rascal bounced, as I say, right into the midst of them; gave a chassez here, and a balancez there; and then, after a pirouette and a pas-de-zephyr, pigeon-winged himself right up into the belfry of the House of the Town Council, where the wonder-stricken belfry-man sat smoking in a state of dignity and dismay. But the little chap seized him at once by the nose; gave it a swing and a pull; clapped the big chapeau de-bras upon his head; knocked it down over his eyes and mouth; and then, lifting up the big fiddle, beat him with it so long and so soundly, that what with the belfry-man being so fat, and the fiddle being so hollow, you would have sworn that there was a regiment of double-bass drummers all beating the devil's tattoo up in the belfry of the steeple of Vondervotteimittiss.
There is no knowing to what desperate act of vengeance this unprincipled attack might have aroused the inhabitants, but for the important fact that it now wanted only half a second of noon. The bell was about to strike, and it was a matter of absolute and pre-eminent necessity that every body should look well at his watch. It was evident, however, that just at this moment the fellow in the steeple was doing something that he had no business to do with the clock. But as it now began to strike, nobody had any time to attend to his manoeuvres, for they had all to count the strokes of the bell as it sounded.
“One!” said the clock.
“Von!” echoed every little old gentleman in every leather-bottomed arm-chair in Vondervotteimittiss. “Von!” said his watch also; “von!” said the watch of his vrow; and “von!” said the watches of the boys, and the little gilt repeaters on the tails of the cat and pig.
“Two!” continued the big bell; and
“Doo!” repeated all the repeaters.
“Three! Four! Five! Six! Seven! Eight! Nine! Ten!” said the bell.
“Dree! Vour! Fibe! Sax! Seben! Aight! Noin! Den!” answered the others.
“Eleven!” said the big one.
“Eleben!” assented the little ones.
“Twelve!” said the bell.
“Dvelf!” they replied perfectly satisfied, and dropping their voices.
“Und dvelf it is!” said all the little old gentlemen, putting up their watches. But the big bell had not done with them yet.
“Thirteen!” said he.
“Der Teufel!” gasped the little old gentlemen, turning pale, dropping their pipes, and putting down all their right legs from over their left knees.
“Der Teufel!” groaned they, “Dirteen! Dirteen!! — Mein Gott, it is Dirteen o'clock!!”
Why attempt to describe the terrible scene which ensued? All Vondervotteimittiss flew at once into a lamentable state of uproar.
“Vot is cum'd to mein pelly?” roared all the boys — “I've been ongry for dis hour!”
“Vot is com'd to mein kraut?” screamed all the vrows, “It has been done to rags for this hour!”
“Vot is cum'd to mein pipe?” swore all the little old gentlemen, “Donder and Blitzen; it has been smoked out for dis hour!” — and they filled them up again in a great rage, and sinking back in their arm-chairs, puffed away so fast and so fiercely that the whole valley was immediately filled with impenetrable smoke.
Meantime the cabbages all turned very red in the face, and it seemed as if old Nick himself had taken possession of every thing in the shape of a timepiece. The clocks carved upon the furniture took to dancing as if bewitched, while those upon the mantel-pieces could scarcely contain themselves for fury, and kept such a continual striking of thirteen, and such a frisking and wriggling of their pendulums as was really horrible to see. But, worse than all, neither the cats nor the pigs could put up any longer with the behavior of the little repeaters tied to their tails, and resented it by scampering all over the place, scratching and poking, and squeaking and screeching, and caterwauling and squalling, and flying into the faces, and running under the petticoats of the people, and creating altogether the most abominable din and confusion which it is possible for a reasonable person to conceive. And to make matters still more distressing, the rascally little scape-grace in the steeple was evidently exerting himself to the utmost. Every now and then one might catch a glimpse of the scoundrel through the smoke. There he sat in the belfry upon the belfry-man, who was lying flat upon his back. In his teeth the villain held the bell-rope, which he kept jerking about with his head, raising such a clatter that my ears ring again even to think of it. On his lap lay the big fiddle, at which he was scraping, out of all time and tune, with both hands, making a great show, the nincompoop! of playing “Judy O'Flannagan and Paddy O'Rafferty.”
Affairs being thus miserably situated, I left the place in disgust, and now appeal for aid to all lovers of correct time and fine kraut. Let us proceed in a body to the borough, and restore the ancient order of things in Vondervotteimittiss by ejecting that little fellow from the steeple.